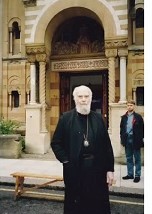|
| Контакты | Форум | Подписка |
Выставка «Кижи. Небесное послание». Москва
Выставка «Тайны храмов эпохи Ивана Грозного». Москва
Выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV – начала XX века». Москва
Фестиваль «Весна духовная. На пути к Пасхе». Москва
Концерты фонда «Искусство добра» в соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва
VII Международный Великопостный хоровой фестиваль. Москва
Выставка «Праздник Благовещения». Москва
Круглый стол «Традиции и современность в христианском искусстве: пути развития». День первый
Семинар «Культурное наследие: памятники христианского искусства Сирии». Москва
Цикл встреч Константина Мацана «Верю – не верю». Лекция «К.С. Льюис: не только Нарния» Москва
Конференция «Наследие Сергея Аверинцева и современное гуманитарное знание». Москва
Пресс-конференция «Гармония буддизма и современные вызовы». Москва |
Мониторинг СМИОна живая и светитсяОтец Алексей Уминский — о любви, хиппи, эпидемии, желании выпить и возможности быть обыкновенным человеком
Протоиерей Алексей Уминский. Фото: диакон Андрей Радкевич Настоятель московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах отец Алексей Уминский, как бы мы сказали простым языком, интересный человек. Бывший хиппи, школьный учитель французского языка, благословленный знаменитым старцем Иоанном Крестьянкиным, тридцать лет он уже служит Богу и всякий раз находит нечто важное, чтобы рассказать и о нем, и о собственных открытиях на пути познания мира. После карантина в городе открылись церкви, и мы воспользовались этим поводом, чтобы лишний раз поговорить с отцом Алексеем Уминским о том, чего нам не хватало последние месяцы: о любви, красоте, мудрости, друзьях и возможности оставаться человеком. — Отец Алексей, в эти странные дни очень хочется поразмышлять о таком, знаете, неизъяснимом, но спасительном чувстве. Но начать, наверное, все-таки следует с каких-то понятных измерений. Вот в Москве открываются храмы, и я так понял, что там внутри надо разделить все пространство неизъяснимой любви на какие-то утвержденные свыше и безопасные для человека части. Что это за части? — Нужно весь храм разделить на такие квадраты, чтобы на каждого человека приходилось по четыре квадратных метра. Это, наверное, даже более жестко, чем в магазине. Я вчера был в «Пятерке», и народ там без масок, без всего. Я понимаю, конечно, что на кассе весь день в маске не просидишь. Но нам, тем не менее, придется все делать как следует. Самая, конечно, большая проблема не в том, чтобы распределить места. А в том, чтобы понять, кого пускать, а кого не пускать. В храм теперь сможет попасть в четыре раза меньше людей, чем обычно, и это момент конфликтов и обид. Как это все устроить? Перед кем-то, значит, надо закрыть двери. Честно сказать, не очень пока понимаю, как именно поступить. Так что, как ни смешно, у меня никакой особенной радости по этому поводу нет. — Давайте поищем вместе. Вы помните, когда в первый раз вообще услышали слово «любовь»? — Наверное, нет. Не могу сказать, что я как-то фиксировался на этом слове. Я думаю, в жизни каждого человека это слово — одно из начал, которые он просто слышит, но не осознает. Само по себе слово «любовь» в русском языке, оно же как только и по отношению к чему только ни употребляется. Например, мать может сказать: мой ребенок не любит сидеть на стуле. А другая скажет: мой любит варенье. Любовь в детстве существует не в каком-то глубоком смысле, а в самом простом, бытовом. По отношению к вещам или там к удобствам. А само по себе чувство любви, оно, наверное, проявляется в других вещах. В тактильности родительской, в ласке, в теплоте, в уюте, в детском ощущении безопасности. Но, может быть, я просто не помню? Наверняка же они признавались мне в любви в какой-то момент нежности, да? Единственное, что я могу точно сказать: в моем детстве мной не манипулировали при помощи любви. Ну то есть не было вот этого: если ты не будешь есть манную кашу, мама тебя не будет любить. — Выходит, в детстве источником любви может быть все что угодно? Стул, варенье, манная каша? — Возможно, это просто русский язык? В других языках для выражения разного рода любви применяются разные слова. Мы знаем, например, что греческий язык использует гораздо больше слов, обозначающих любовь, — супружескую любовь, дружескую любовь, эротическую любовь, какую хотите любовь. И другие языки мира делают то же самое. — Согласен. В итальянском языке, например, есть и вежливая форма, и интимная форма выражения любви. — Ну да, есть amore и есть volere bene. Так и в Евангелии есть, например, другое слово для любви. В послании апостола Павла коринфянам, знаменитый вот этот его гимн любви, в котором любовь не превозносится, там употреблено слово не amore, а caritas, то есть нечто другое, некое милосердие, милосердная любовь. — Вот вы по образованию лингвист, окончили факультет романо-германских языков педагогического института, работали школьным учителем французского языка. Вас не интересовал вопрос, почему именно в русском языке словом одним «любовь» описывается все подряд? — Я это не изучал, но мне кажется, что с одной стороны это ведь хорошо. Получается, что слово «любовь» в нашем языке обращено сразу ко всему миру. Разные состояния этого мира, разные его аспекты, да, названы одном словом, и это не свидетельство бедности языка, а наоборот — знак его широты. Но при этом другие языки сильно помогают углубиться в наши широкие понятия. Например, в сербском языке это интересно. Вот в Евангелии от Иоанна, в 21-й главе, когда Христос спрашивает Петра на озере: «Любишь ли ты меня больше других, Петр?», он ему отвечает: «Да, Господи, конечно, я люблю тебя». По-сербски это будет: «Волишь ли мя?» Связь, ассоциация с итальянским volere bene тут очевидная, но все же тут есть и нечто другое, славянское, русское. Твоя воля, твоя устремленность, твое желание, движение твоей жизни, вот что тут подразумевается под любовью. — Ну вот к слову о широте понимания любви русским человеком. Насколько я понял из вашей биографии, вы в свое время были хиппи. Вот эти вот устремленность и желание, они и были для вас проявлением любви? — Ну да, make love, not war. Не знаю, в последнее время почему-то именно этому моменту моей биографии уделяется много внимания, хотя кем только я ни был в юности. Впрочем, если мы говорим о движении хиппи как таковом, то это было, по сути, некое все же осмысление христианства, задушенного буржуазией, буржуазным сознанием, скажем так. Любовь к Богу, превращенная в воскресные посиделки в церкви, вот почему хиппи христианскую идею любви стали выводить за пределы общественной морали. В своем юном, бескомпромиссном видении мира хиппи пытались вычленить для себя главное в ненавистных общественных отношениях. Сама по себе идея любви должна была превалировать над всем — над разумом, над законами общества и естества. Любовь мыслилась в категориях свободы. И, конечно, в этом смысле эта идея во многом христианская. Ведь любовь без свободы невозможна, а свобода без любви абсурдна. Но людьми молодыми любовь воспринималась и чувственно, и физиологически. Это было наиболее понятно, наиболее ощутимо, наиболее ярко. Такая манифестация любви проявляет себя главным образом физиологически. Ну и, соответственно, потом это движение стало приобретать формы коммун, формы хипповского коммунизма, братства. Это было естественно для разлома общества после Второй мировой войны, да и вообще для XX века, когда таких разломов было много, и из каждого из них вырывалась любовь. — Что в этом привлекало именно вас? — Ну, конечно, свобода людей, которых я увидел тогда. Их непохожесть на всех остальных. Это же был конец семидесятых — начало восьмидесятых, апофеоз брежневского времени. А я же вырос в обычной советской семье, прошел все инициации — от октябренка до комсомольца. В школе я вообще был комсомольским активистом. И вдруг все эти стереотипы были разрушены людьми, которые были необыкновенно артистичны, необыкновенно симпатичны, очень живописны. Невозможно было в это не влюбиться. Невозможно было пройти мимо и не стать одним из них, вот и все. — Вот вы опять употребляете русское слово «любить», «влюбиться». В каком именно смысле в этом случае? — Ну, конечно, я в то время думал прежде всего именно о влюбленности, о романтических отношениях. Вопрос о любви, как о заповеди, как о призвании, как о некоем способе жизни для меня тогда никак не стоял. Я просто чувствовал себя поэтом, читал много стихов и сам их писал. А стихи без вдохновения написать невозможно, поэтому, конечно, я искал ощущения любви. — И вы поэтому начали читать Евангелие именно в таком вот романтическом возрасте? — Ну, тогда это было естественно для людей круга хиппи. Это ведь была интеллектуальная в основном задача. Мы же были студенты, люди с соответствующим запросом. Мы, естественно, подражали хиппи на Западе. Раз они получают такого рода знания, значит, и мы тоже. Чего только не читали — индуистскую, философскую, религиозную литературу». Так говорил Заратустра, Кастанеда, какие-то оккультные книги, огромное количество. Ну и Евангелие среди прочего тоже. Я прочитал его, когда мне было, наверное, восемнадцать или девятнадцать лет. Надо сказать, именно на почве этого интереса в среде хиппи и появились потом более или менее серьезные христиане, которые для себя сделали свой собственный духовный выбор. И они, конечно, выделились над поверхностным пониманием мира, над тем, что было просто прикольно знать все про все и блеснуть этим на тусовке. — А вот этот опыт чтения Евангелие в восемнадцать лет, он принес вам какое-то откровение? — Не могу сказать, что меня прямо — хлобысь — и прихлопнуло. Что я сразу все узнал и понял. Нет. Я, естественно, даже и до конца-то не прочитал. Мне Евангелие вообще дали на какое-то короткое время, тогда это была книга недоступная. Только со временем я стал понимать, насколько это меня тогда зацепило. Потому что в какой-то момент — и вот это ощущение я помню очень хорошо — я вдруг понял, что эта книга страшно невыгодна людям. В ней вообще написано столько вещей, которые человеку абсолютно не нужны. Если бы эту книгу действительно писал человек, он бы сделал ее более для себя удобной и понятной. Более, что ли, выполнимой. Ведь то, что там написано, оно просто разрушает обычную жизнь в ее удобном и естественном течении. И вот это разрушение привычной человеческой жизни, оно связано с любовью, именно с любовью. Именно любовь, о которой там говорит Христос, она, вообще-то, и является главным разрушительным моментом. Ну какой нормальный человек будет призывать любить врагов? Это вне всякой нормы. Вот и все. Это ясно показало мне, что Евангелие не могло быть написано людьми. — Это знание, оно изменило вас? — Ну, слушайте, мне скоро будет шестьдесят лет. Жизнь моя за это время постоянно менялась. Я был сначала молодым идиотом, потом я немножко повзрослел, у меня появились друзья внутри церкви, появился духовный отец, который меня формировал, в том числе с точки зрения понимания Евангелия и вообще законов жизни. Потом я женился. Тридцать лет назад я стал священником. Это целый путь, на котором я был очень разным человеком. Я был, вообще, сначала очень жестким традиционалистом, монархистом. Тогда, вообще, все сначала были хиппи, а потом стали монархистами. В восьмидесятые годы это же было своего рода диссидентство. Что такое тогда священник? Почти хиппи, только монархист. Странно одет, носит длинные волосы, бороду, читает непонятные книги, говорит на своем сленге, входит в своеобразные тусовки, у него свои тайны, приоритеты, церковно-славянский язык. — А как вас занесло в такой вот традиционализм? Насколько я понимаю, вы даже поехали во Псково-Печерский монастырь, встретили там отца Иоанна Крестьянкина, который благословил вас. Как это вышло? — Так все хиппи туда ездили. Это, знаете, тогда было примерно как сейчас съездить в Катманду. Монастырей было всего два. Троице-Сергиева Лавра, она была заповедником, где особо не разгуляешься и никуда не попадешь. И был Псково-Печерский монастырь — глоток религиозной свободы. Он никогда не закрывался, там были старцы. Это действовало как Шамбала на буддистов. Ездили туда прежде всего к отцу Иоанну, конечно. Все старались к нему попасть, и попасть к нему было, в общем, несложно. Просто надо было проявить терпение. Подождать. И тебя принимали. Первую встречу я, конечно, очень хорошо помню, это невозможно забыть. Конечно, ты к этому готовился: тебе сейчас покажут настоящего великого старца, который все про всех знает, который прозорлив, о котором ходят легенды. И ты заранее смотришь фотографии, представляешь его себе эдаким гигантом. И вдруг посреди всего этого появляется такой, знаете, светлячок. Как это говорят: он живой и светится. Представьте себе. Огромное количество людей, монахов, все его окружают, защищают. А он просто такой вот необыкновенно веселого вида светлячок, и все. Я как раз тогда, кстати, впервые и увидел, что такое любовь, как это в принципе бывает. Какая это простая и естественная вещь. Значит, это было примерно так. Внизу, рядом с келейным корпусом ты стоишь и ждешь, когда тебя позовут. И с тобой вместе стоит человек двадцать-тридцать разных людей. О, Господи! Кого там только нет! Какие-то дурно пахнущие паломники, какие-то очень злые тетки, которые между собой ругаются, какие-то полубесноватые люди с тиками и непонятно чем еще. И ты стоишь между ними, такой московский интеллигентишко, читавший Кастанеду, и думаешь: о, Господи! Ну и ну! Ну и люди! Мама родная! Что это? И вдруг выходит отец Иоанн. И он вдруг к каждому подходит и начинает так говорить, как говорят только с родными людьми, с близкими знакомыми. Безо всякой навязанной доброты, искренне. Было видно, что в нем столько любви, что ее просто хватает на всех. И эта любовь не ищет кого-то своего, не раздражается, не упрекает, не ждет. И мне стало стыдно, так стыдно. Я вдруг подумал: да что же это такое? Что это значит: любить и не любить? Что это за любовь, которая не выделяет изо всех кого-то особенного, твоего, не делает выбор? Я был этим очень удивлен. И я вдруг понял: если любовь есть, она просто есть, вот и все. А если ее нет, то извините. — А есть она? Вот вы же все время, что называется, с людьми. Люди вообще ищут любви, хотят ее, спрашивают о ней у вас? — Я не могу сказать за всех людей. Да и вообще вопрос о любви, его так просто не задашь. И лекцию о любви не прочтешь. И любви никого не научишь. Вообще, есть такие вопросы, которые в принципе нельзя задавать, ну или задавать их бесполезно. Ну представьте. Вот стоишь ты на исповеди, и спрашивают: батюшка, а вот как мне полюбить? А я-то откуда знаю? Что я могу ответить на это? Можно, конечно, сказать: исполняй заповеди, читай Евангелие. Или вот есть такой совет, достаточно святоотеческий: делай дела любви, и тогда типа любовь к тебе придет. Но это совсем не обязательно. Ты можешь делать все что угодно, хоть заниматься благотворительностью. Но в этом нет никакой пользы. Дела любви ты делаешь, а любви не имеешь. Ну что? Вот тот же апостол Павел стирает все эти советы в ноль. Он говорит: отдай имение свое тело на сожжение, горы двигай, но без любви все это просто бессмысленно. Вопрос, наверное, в том, насколько человека, в принципе, это тревожит, насколько он способен понять, что вот есть у него люди, которые ему дороги, а есть те, которых он вычеркнул из своей жизни навсегда. Знаете, архиепископ Иоанн Шаховской сказал однажды такую простую и очень точную фразу: нежелание кого-то видеть похоже на приказ о расстреле. Понимаете? И это действительно страшновато — представить себе, сколько ж людей я терпеть не могу и видеть их не хочу. И это значит, что, в принципе, я внутри себя отдаю приказ их расстрелять. И вот с этим как быть-то? Только с самим с собой да с Богом ты можешь этот вопрос решать. Только так. Это очень тяжелая вещь, мучение просто какое-то. Нет, ну можно, наверное, для себя решить и выбрать определенный уровень понимания любви. Вот есть некие свои, и ты со своими всегда свой, ты своим всегда помогаешь. А есть какие-то враги церкви, враги Отечества и враги Христовы. И их следует гнушаться. Так тоже, наверное, можно, это очень по-человечески. Но вот Евангелие не дает человеку такой возможности. В этом и состоит его такая вот тяжесть. Нет права не любить. И с этим надо что-то делать. А что с этим делать, лично я не знаю. — Ну вот этот вот кусок жизни, который мы сейчас проживаем, вот эпидемия эта, она не дает нам шанс как следует задуматься о любви или о ее невозможности? — Знаете, мне кажется, мы слишком много придаем значения этому периоду жизни. Он не такой уж длинный. Всего-то пара месяцев. Я даже стал злиться, когда слышу вот это вот: мир никогда не будет прежним. Тьфу. Да на следующий день все будет тем же самым, как было. Ровно на следующий день. Ничего с нами не произойдет, ничего. — Ну вам же вот приходится храм разделять на квадраты, думать о том, как кому-то отказать во входе. Это ли не раздумья о переменах? — Для меня это скорее неудобства, чем раздумья. Я с ними справлюсь, что тут такого? Я это как-то разрешу, постараюсь. Мы все чему-то в этой ситуации учимся. Для меня, как для священника, это просто важный опыт. Например, нужно учиться молиться Богу не на богослужениях, а дома. Это серьезное испытание. Потому что люди вообще у нас молиться-то не любят в сосредоточенном состоянии. У нас никогда не было опыта индивидуальной молитвы. Она у нас существует в таком более или менее отформатированном виде. Это в основном богослужение, где, в общем-то, профессионалы молятся за тебя, а прихожане принимают участие только в том виде молитвы, который им преподносится. И это очень удобно, и очень комфортно, и очень эмоционально. Духовность в этой ситуации — необыкновенно приятное чувство. И все к нему привыкли. И вдруг вот эта вот огромная часть привычной молитвы, она исчезла из жизни христиан. Что им остается? Утреннее и вечернее правило, которые христиане, как правило, исполняют в спешке, потому что им надо спешить на работу. А после работы и ужина на вечерней молитве ты просто засыпаешь. Ну, это так по больше части, не будем делать вид, что все мы тут такие домашние молитвенники. И вдруг происходит вот что: появляется куча времени. На работу идти не надо, перед тобой оказывается этот молитвослов, ты начинаешь вчитываться и вдруг понимаешь: а молитвы-то эти, они к тебе лично, в общем-то, большого отношения не имеют. Что делать? Самостоятельно молиться ты не умеешь. И выходит, что нет возможности даже пять минут постоять в сосредоточенном состоянии перед Богом с любовью, чтобы ему что-то сказать про себя. Что-то ему открыть, о чем-то с ним побеседовать. И это, конечно, проблема. Не могу сказать с уверенностью, но, возможно, вот в этой связи у людей появился какой-то опыт. Может быть, им помогли в этом трансляции богослужений. Во всяком случае, я не ожидал, что они будут так востребованы. Мы ведь начали снимать богослужение в алтаре, куда человеку обычно нет доступа, и люди стали вдруг видеть и слышать все молитвы, которые происходят во время литургии. И это оказалось некоторым откровением. Например, у нас в храме на всенощной обычно человек шестьдесят. А во время трансляции — четыреста. А во время литургии — семь тысяч просмотров. Станет ли от этого лучше мир? Я в этом смысле не настроен оптимистически. Общей гармонии, общего согласия не бывает. Что-то может просто поменяться местами. То, что было хуже, станет лучше, а то, что было лучше, станет хуже. Не более того. К сожалению. Что мы можем сделать в этой связи? Да просто выйти друг к другу нормальными людьми. Без особенных ожиданий братства и объятий. Просто нормальными людьми, которые соскучились друг по другу. — Вы соскучились? — Очень. Я очень соскучился по друзьям. Я очень хочу сесть где-нибудь с ними веселой компанией, хорошо выпить и изумительно закусить. Посмеяться, поразговаривать. А потом сесть на самолет и куда-нибудь на нем полететь. Это ровно те самые желания, которые меня всегда сопровождают по жизни. Мир, который вокруг меня, люди, которые вокруг меня. Обычные человеческие вещи. Мне вообще кажется, что мы не должны ожидать от себя чего-то необыкновенного, — мы простые люди. И для любви нам достаточно просто быть этими людьми. И я так скажу: при всей своей простоте это вполне себе высокая задача. Сергей Мостовщиков 8 июня 2020 Источник: «Новая газета» Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Мониторинг СМИ» | ||
|
|
© 2005–2019 «Благовест-инфо»
Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru
Телефон редакции: +7 499 264 97 72
серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.
Учредитель: ИП Вербицкий И.М.
Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович
Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»